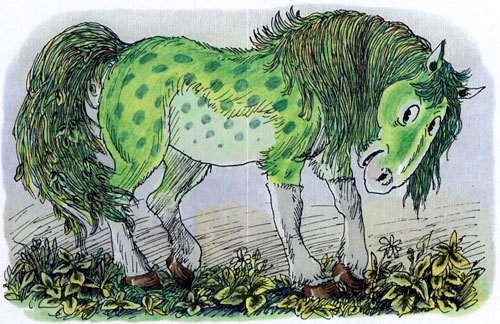Побратимы
Мы только что сделали маленькое путешествие и опять пустились в новое, более далёкое. Куда? В Спарту! В Микены! В Дельфы! Там тысячи мест, при одном названии которых сердце вспыхивает желанием путешествовать. Там приходится пробираться верхом, взбираться по горным тропинкам, продираться сквозь кустарники и ездить не иначе, как целым караваном. Сам едешь верхом рядом с проводником, затем идёт вьючная лошадь с чемоданом, палаткой и провизией и, наконец, для прикрытия, двое солдат.
Там уж нечего надеяться отдохнуть после утомительного дневного перехода в гостинице; кровом путнику должна служить его собственная палатка; проводник готовит к ужину пилав; тысячи комаров жужжат вокруг палатки; какой уж тут сон! А наутро предстоит переезжать вброд широко разлившиеся речки; тогда крепче держись в седле — как раз снесёт!
Какая же награда за все эти мытарства? Огромная, драгоценнейшая! Природа предстаёт здесь перед человеком во всём своём величии; с каждым местом связаны бессмертные исторические воспоминания — глазам и мыслям полное раздолье! Поэт может воспеть эти чудные картины природы, художник — перенести их на полотно, но самого обаяния действительности, которое навеки запечатлевается в душе всякого, видевшего их воочию, не в силах передать ни тот, ни другой.
Одинокий пастух, обитатель диких гор, расскажет путешественнику что-нибудь из своей жизни, и его простой, бесхитростный рассказ представит, пожалуй, в нескольких живых штрихах страну эллинов куда живее и лучше любого путеводителя. Так пусть же он рассказывает! Пусть расскажет нам о прекрасном обычае побратимства.
— Мы жили в глиняной мазанке; вместо дверных косяков были рубчатые мраморные колонны, найденные отцом. Покатая крыша спускалась чуть не до земли; я помню её уже некрасивою, почерневшею, но когда жильё крыли, для неё принесли с гор цветущие олеандры и свежие лавровые деревья. Мазанка была стиснута голыми серыми отвесными, как стена, скалами. На вершинах скал зачастую покоились, словно какие-то живые белые фигуры, облака. Никогда не слыхал я здесь ни пения птиц, ни музыкальных звуков волынки, не видал весёлых плясок молодёжи; зато самое место было освящено преданиями старины; имя его само говорит за себя: Дельфы! Тёмные, угрюмые горы покрыты снегами; самая высокая гора, вершина которой дольше всех блестит под лучами заходящего солнца, зовётся Парнасом. Источник, журчавший как раз позади нашей хижины, тоже слыл в старину священным; теперь его мутят своими ногами ослы, но быстрая струя мчится без отдыха и опять становится прозрачной. Как знакомо мне тут каждое местечко, как сжился я с этим глубоким священным уединением! Посреди мазанки разводили огонь, и когда от костра оставалась только горячая зола, в ней пекли хлебы. Если мазанку нашу заносило снегом, мать моя становилась веселее, брала меня за голову обеими руками, целовала в лоб и пела те песни, которых в другое время петь не смела: их не любили наши властители турки. Она пела: «На вершине Олимпа, в сосновом лесу, старый плакал олень, плакал горько, рыдал неутешно, и зелёные, синие, красные слёзы лилися на землю ручьями, а мимо тут лань проходила. „Что плачешь, олень, что роняешь зелёные, синие, красные слёзы?“ — „В наш город нагрянули турки толпой, а с ними собак кровожадных стаи!“ — „Я их погоню по лесам, по горам, прямо в синего моря бездонную глубь!“ — Так лань говорила, но вечер настал — ах, лань уж убита, и загнан олень!»
Тут на глазах матери навёртывались слёзы и повисали на длинных ресницах, но она смахивала их и переворачивала пёкшиеся в золе чёрные хлебы на другую сторону. Тогда я сжимал кулаки и говорил: «Мы убьём этих турок!» Но мать повторяла слова песни: «Я их погоню по лесам, по горам, прямо в синего моря бездонную глубь!» — Так лань говорила, но вечер настал — ах, лань уж убита и загнан олень!»
Много ночей и дней проводили мы одни-одинёшеньки с матерью: но вот приходил отец. Я знал, что он принесёт мне раковин из залива Лепанто или, может быть, острый, блестящий нож. Но раз он принёс нам ребёнка, маленькую нагую девочку, которую нёс завёрнутую в козью шкуру под своим овчинным тулупом. Он положил её матери на колени, и когда её развернули, оказалось, что на ней нет ничего, кроме трёх серебряных монет, вплетённых в её чёрные волосы. Отец рассказал нам, что турки убили родителей девочки, рассказал и ещё много другого, так что я целую ночь бредил во сне. Мой отец и сам был ранен; мать перевязала ему плечо; рана была глубока, толстая овчина вся пропиталась кровью. Девочка должна была стать моею сестрою. Она была премиленькая, с нежною, прозрачною кожей, и даже глаза моей матери не были добрее и нежнее глаз Анастасии — так звали девочку. Она должна была стать моею сестрой, потому что отец её был побратимом моего; они побратались ещё в юности, согласно древнему, сохраняющемуся у нас обычаю. Мне много раз рассказывали об этом прекрасном обычае; покровительницей такого братского союза избирается всегда самая прекрасная и добродетельная девушка в округе.
И вот малютка стала моею сестрой; я качал её на своих коленях, приносил ей цветы и птичьи пёрышки; мы пили вместе с ней из Парнасского источника, спали рядышком под лавровой крышей нашей мазанки и много зим подряд слушали песню матери об олене, плакавшем зелёными, синими и красными слезами; но тогда я ещё не понимал, что в этих слезах отражались скорби моего народа.
Раз пришли к нам трое иноземцев, одетых совсем не так, как мы; они привезли с собою на лошадях палатки и постели. Их сопровождало более двадцати турок, вооружённых саблями и ружьями, — иноземцы были друзьями паши и имели от него письмо. Они прибыли только для того, чтобы посмотреть на наши горы, потом взобраться к снегам и облакам на вершину Парнаса и наконец увидать причудливые чёрные отвесные скалы вокруг нашей мазанки. Всем им нельзя было уместиться в ней на ночь, да они и не переносили дыма, подымавшегося от костра к потолку и медленно пробиравшегося в низенькую дверь. Они раскинули свои палатки на узкой площадке перед мазанкой, стали жарить баранов и птиц и пили сладкое вино; турки же не смели его пить.
Когда они уезжали, я проводил их недалеко; сестричка Анастасия висела у меня за спиной в мешке из козлиной шкуры. Один из иноземных гостей поставил меня к скале и срисовал меня и сестричку; мы вышли как живые и казались одним существом. Мне-то это и в голову не приходило, а оно и в самом деле выходило так, что мы с Анастасией были как бы одним существом, — вечно лежала она у меня на коленях или висела за спиной, а если я спал, так снилась мне во сне.
Две ночи спустя в нашей хижине появились другие гости. Они были вооружены ножами и ружьями; то были албанцы, храбрый народ, как говорила мать. Недолго они пробыли у нас. Сестрица Анастасия сидела у одного из них на коленях, и когда он ушёл, в волосах у неё остались только две серебряных монетки. Албанцы свёртывали из бумаги трубочки, наполняли их табаком и курили; самый старший всё толковал о том, по какой дороге им лучше отправиться, и ни на что не мог решиться.
— Плюну вверх — угожу себе в лицо, — говорил он, — плюну вниз — угожу себе в бороду!
Но как-никак, а надо было выбрать какую-нибудь дорогу!
Они ушли, и мой отец с ними. Немного спустя, мы услышали выстрелы, потом ещё и ещё; в мазанку к нам явились солдаты и забрали нас всех: и мать, и Анастасию, и меня. Разбойники нашли в нашем доме пристанище, говорили солдаты, мой отец был с ними заодно, поэтому надо забрать и нас.
Я увидал трупы разбойников, труп моего отца и плакал, пока не уснул. Проснулся я уже в темнице, но тюремное помещение наше было не хуже нашей мазанки; мне дали луку и налили отзывавшего смолой вина, но и оно было не хуже домашнего, тоже хранившегося в осмоленных мешках.
Как долго пробыли мы в темнице — не знаю, помню только, что прошло много дней и ночей. Когда мы вышли оттуда, был праздник святой пасхи; я тащил на спине Анастасию, — мать была больна и еле-еле двигалась. Не скоро дошли мы до моря; это был залив Лепанто. Мы вошли в церковь, всю сиявшую образами, написанными на золотом фоне. Святые лики были ангельски прекрасны, но мне всё-таки казалось, что моя малютка сестрица не хуже их. Посреди церкви стояла гробница, наполненная розами; в образе чудесных цветов лежал сам господь наш Иисус Христос — так сказала мне мать. Священник провозгласил: «Христос воскресе!» — и все стали целоваться друг с другом. У всех в руках были зажжённые свечи; дали по свечке и нам с малюткой Анастасией. Потом загудели волынки, люди взялись за руки и, приплясывая, вышли из церкви. Женщины жарили под открытым небом пасхальных агнцев; нас пригласили присесть к огню, и я сел рядом с мальчиком постарше меня, который меня обнял и поцеловал со словами: «Христос воскресе!» Так мы встретились: Афтанидес и я.
Мать умела плести рыболовные сети; тут, возле моря, это давало хороший заработок, и мы долго жили на берегу чудного моря, которое отзывало на вкус слезами, а игрою красок напоминало слёзы оленя: то оно было красное, то зелёное, то снова синее.
Афтанидес умел грести, и мы с Анастасией часто садились к нему в лодку, которая скользила по заливу, как облачко по небу. На закате горы окрашивались в тёмно-голубой цвет; с залива было видно много горных цепей, выглядывавших одна из-за другой; виден был вдали и Парнас с его снегами. Вершина его горела, как раскалённое железо, и казалось, что весь этот блеск и свет исходят изнутри её самой, так как она продолжала блестеть в голубом сияющем воздухе ещё долго после того, как скрывалось солнце. Белые чайки задевали крыльями за поверхность воды; на воде же обыкновенно стояла такая тишь, как в Дельфах между тёмными скалами. Я лежал в лодке на спине, Анастасия сидела у меня на груди, а звёзды над нами блестели ярче церковных лампад. Это были те же звёзды, и стояли они над моей головой как раз так же, как тогда, когда я, бывало, сидел под открытым небом возле нашей мазанки в Дельфах. Под конец мне стало грезиться, что я всё ещё там… Вдруг набежала волна, и лодку качнуло. Я громко вскрикнул — Анастасия упала в воду! Но Афтанидес, быстрый как молния, вытащил её и передал мне. Мы сняли с неё платье, выжали и потом опять одели её. То же сделал Афтанидес, и мы оставались на воде до тех пор, пока мокрые платья не высохли. Никто и не узнал, какого страха мы натерпелись, Афтанидес же с этих пор тоже получил некоторые права на жизнь Анастасии.
Настало лето. Солнце так и пекло, листья на деревьях поблёкли от жары, и я вспоминал о наших прохладных горах, о свежем источнике. Мать тоже томилась, и вот однажды вечером мы пустились в обратный путь. Что за тишина была вокруг! Мы шли по полям, заросшим тмином, который всё ещё благоухал, хотя солнце почти совсем спалило его. Нам не попадалось навстречу ни пастуха, ни мазанки. Безлюдно, мертвенно-тихо было вокруг, только падучие звёзды говорили, что там, в высоте, была жизнь. Не знаю, сам ли светился прозрачный голубой воздух, или это сияние шло от звёзд, но мы хорошо различали все очертания гор. Мать развела огонь, поджарила лук, которым запаслась в дорогу, и мы с сестрицей Анастасией заснули на тмине, нимало не боясь ни гадкого Смидраки, из пасти которого пышет огонь, ни волков, ни шакалов: мать была с нами, и для меня этого было довольно.
Наконец мы добрались до нашего старого жилья, но от мазанки оставалась только куча мусору; пришлось делать новую. Несколько женщин помогли матери, и скоро новые стены были подведены под крышу из ветвей олеандров. Мать стала плести из ремешков и коры плетёнки для бутылок, а я взялся пасти маленькое стадо священника; товарищами моими были Анастасия да маленькие черепахи.
Раз навестил нас милый Афтанидес. Он сильно соскучился по нас, сказал он, и пришёл повидаться с нами. Целых два дня пробыл он у нас.
Через месяц он пришёл опять и рассказал нам, что поступает на корабль и уезжает на острова Патрос и Корфу, оттого и пришёл проститься с нами. Матери он принёс в подарок большую рыбу. Он знал столько разных историй, так много рассказывал нам, и не только о рыбах, что водятся в заливе Лепанто, но и о героях, и о царях, правивших Грецией в былые времена, как турки теперь.
Я не раз видел, как на розовом кусте появляется бутон и как он через несколько дней или недель распускается в чудный цветок; но бутон обыкновенно становился цветком, прежде чем я успевал подумать о том, как хорош, велик и зрел самый бутон. То же самое вышло и с Анастасией. И вот она стала взрослой девушкой; я давно был сильным парнем. Постели моей матери и Анастасии были покрыты волчьими шкурами, которые я содрал собственными руками с убитых мною зверей. Годы шли.
Раз вечером явился Афтанидес, стройный, крепкий и загорелый. Он расцеловал нас и принялся рассказывать о море, об укреплениях Мальты, о диковинных гробницах Египта. Рассказы его были так чудесны, точно легенды, что мы слышали от священника. Я смотрел на Афтанидеса с каким-то почтением.
— Как много ты всего знаешь, сколько у тебя рассказов! — сказал я ему.
— Ты однажды рассказал мне кое-что получше! — отвечал он. — И рассказ твой не идёт у меня из головы. Ты рассказывал мне как-то о прекрасном старом обычае побратимства! Вот этому-то обычаю я хотел бы последовать! Станем же братьями, как твой отец с отцом Анастасии! Пойдём в церковь, и пусть прекраснейшая и добродетельнейшая из девушек Анастасия скрепит наш союз и будет сестрой нам обоим! Ни у одного народа нет более прекрасного обычая, чем у нас, греков, побратимство!
Анастасия покраснела, как свежий розовый лепесток, а мать поцеловала Афтанидеса.
На расстоянии часа ходьбы от нашего жилья, там, где скалы покрыты чернозёмом, стоит, в тени небольшой купы дерев маленькая церковь; перед алтарём висит серебряная лампада.
Я надел самое лучшее своё платье: вокруг бёдер богатыми складками легла белая фустанелла; стан плотно охватила красная куртка; на феске красовалась серебряная кисть, а за поясом — нож и пистолеты. На Афтанидесе был голубой наряд греческих моряков; на груди у него висел серебряный образок божьей матери, стан был опоясан драгоценным шарфом, какие носят знатные господа. Всякий сразу увидал бы, что мы готовились к какому-то торжеству. Мы вошли в маленькую пустую церковь, всю залитую лучами вечернего солнца, игравшими на лампаде и на золотом фоне образов. Мы преклонили колена на ступенях перед алтарём; Анастасия стала повыше, обернувшись к нам лицом. Длинное белое платье легко и свободно облегало её стройный стаи; на белой шее и груди красовались мониста из древних и новых монет. Чёрные волосы её были связаны на затылке в узел и придерживались убором из золотых и серебряных монет, найденных при раскопках старых храмов; богатейшего убора не могло быть ни у одной гречанки. Лицо её сияло, глаза горели, как звёзды.
Все мы сотворили про себя молитву, и Анастасия спросила нас:
— Хотите ли вы быть друзьями на жизнь и на смерть?
— Да! — ответили мы.
— Будет ли каждый из вас помнить всегда и всюду, что бы с ним ни случилось: «Брат мой — часть меня самого, моя святыня — его святыня, моё счастье — его счастье, я должен жертвовать для него всем и стоять за него, как за самого себя».
И мы повторили: «Да!»
Тогда она соединила наши руки, поцеловала каждого из нас в лоб, и все мы опять прошептали молитву. Из алтаря вышел священник и благословил нас, а в самом алтаре раздалось пение других святых отцов. Вечный братский союз был заключён. Когда мы вышли из церкви, я увидал мою мать, плакавшую от умиления.
Как стало весело в нашей мазанке у Дельфийского источника! Вечером накануне того дня, как Афтанидес должен был оставить нас, мы задумчиво сидели с ним на склоне горы. Его рука обвивала мой стан, моя — его шею. Мы говорили о бедствиях Греции и о людях, на которых она могла бы опереться. Наши мысли и сердца были открыты друг другу. И вот я схватил его за руку.
— Одного ещё не знаешь ты — того, что было известно до сих пор лишь богу да мне! Моя душа горит любовью! И эта любовь сильнее моей любви к матери, сильнее любви к тебе!..
— Кого же любишь ты? — спросил Афтанидес, краснея.
— Анастасию! — сказал я.
И рука друга задрожала в моей, а лицо его покрылось смертною бледностью. Я заметил это и понял всё! Я думаю, что и моя рука задрожала, когда я нагнулся к нему, поцеловал его в лоб и прошептал:
— Я ещё не говорил ей об этом! Может, она и не любит меня!.. Брат, вспомни: я видел её, она выросла на моих глазах и вросла в мою душу!
— И она будет твоей! — сказал он. — Твоей! Я не могу и не хочу украсть её у тебя! Я тоже люблю её, но… завтра я уйду отсюда! Увидимся через год, когда вы будете уже мужем и женою, не правда ли?.. У меня есть кое-какие деньги — они твои! Ты должен взять, ты возьмёшь их!
Тихо поднялись мы на гору; уже свечерело; когда мы остановились у дверей мазанки.
Анастасия посветила нам при входе; матери моей не было дома. Анастасия печально посмотрела на Афтанидеса и сказала:
— Завтра ты покинешь нас! Как это меня огорчает!
— Огорчает тебя! — сказал он, и мне послышалась в его голосе такая же боль, какая жгла и моё сердце. Я не мог вымолвить ни слова, а он взял Анастасию за руку и сказал:
— Брат наш любит тебя, а ты его? В его молчании — его любовь!
И Анастасия затрепетала и залилась слезами. Тогда все мои мысли обратились к ней, я видел и помнил одну её, рука моя обняла её стан, и я сказал ей:
— Да, я люблю тебя!
И уста её прижались к моим устам, а руки обвились вокруг моей шеи… Но тут лампа упала на пол, и в хижине воцарилась такая же темнота, как в сердце бедного Афтанидеса.
На заре он крепко поцеловал нас всех и ушёл. Матери моей он оставил для меня все свои деньги. Анастасия сделалась моею невестой, а несколько дней спустя — и женой.